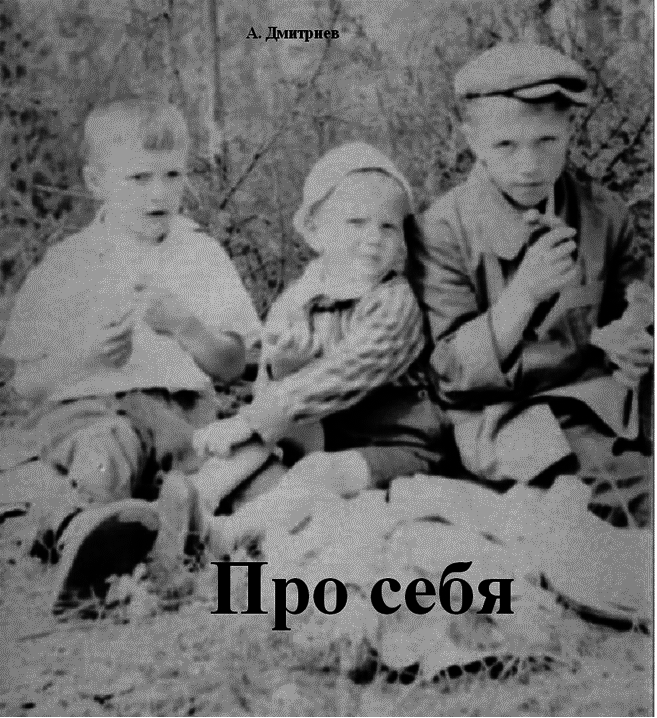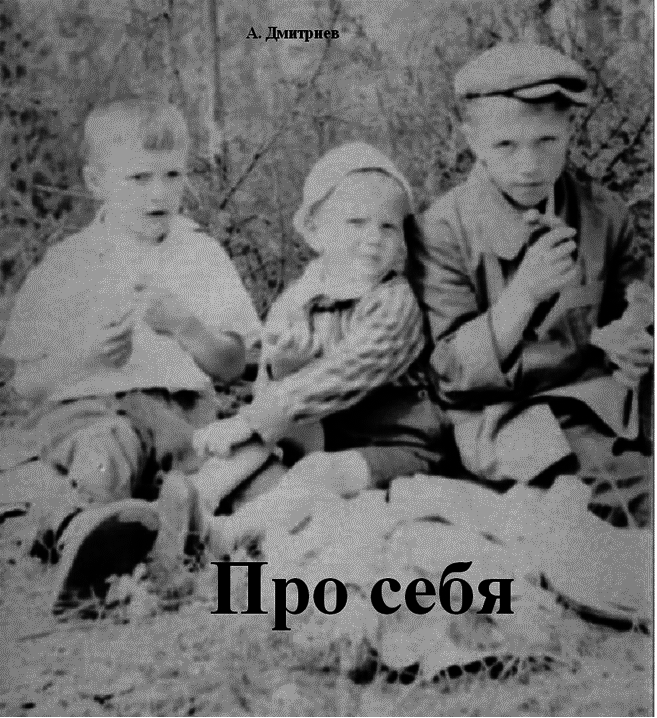2013 – 2014 г.г.
Внучке, Кате, для школьного сочинения о родственниках.
Про себя.
Я родился в середине прошлого века в деревне в костромских лесах. Одно время мне было не очень приятно в разных бумагах писать место рождения - деревня Деревеньки, Галичского района, Костромской области. Это то самое место, которое отмечено в моем паспорте как место моего рождения. Правда, мать успокаивала, что родился-то (в смысле появился на свет) я в роддоме в городе Галиче, это несколько поднимало меня в глазах сверстников. Где-то в тех местах на Исуповском болоте до сих пор бродят призраки погубленных Иваном Сусаниным поляков. А совсем недавно, в познавательной телевизионной программе сказали, что Иван Сусанин родился в той самой деревне Деревеньки, оттуда и ушел на подвиг, заведя лихих людей на непроходимое болото, спасая ценой своей жизни династию и всю историю нашего государства. Это же совсем меняет дело; жаль, что такое познание пришло ко мне так поздно.Мой отец, Виталий Александрович, родился в 1925 году в деревне Шиши в Ветлужском районе Нижегородской (Горьковской) области (хотя скорее всего это была Туранская волость Варнавинского уезда тогда еще Костромской области, административно этот край перекраивали много раз) в семье крестьянина – единоличника, выстоявшего в годы всеобщей и безкомпромисной коллективизации. Он, как и мой дед, Александр Николаевич, был личностью очень примечательной. В войну закончил фельдшерское отделение Ветлужского медучилища (фельдшерской школы), с начала 1943 года призван в армию, там был связистом, после войны оставался служить в Австрии и в Румынии и вернулся в 1950 году лейтенантом или младшим лейтенантом. Как он познакомился с моей матерью, спросить уже не у кого, оба в 50 -51 годах учились в Калининской вечерней школе, там и познакомились. Поселок Калинино или, как его в то время звали, «фабрика», был районным центром и притягивал народ окрестных деревень возможностью приобщиться к пролетарскому классу со всеми вытекающими диктатурными последствиями. Мать, Дина Михайловна (Пичугина), родилась в 1929 году неподалеку в деревне Ложечная, с родителями переехали в Калинино, после вечерней школы поступила в Горьковкий институт на химико-технологический факультет, потом перевелась на заочное отделении и они с отцом переехали в Галичский район Костромской области, где отец работал фельдшером и одновременно учился в Галичском учительском институте на учителя математики и физики (такой институт был, я видел отцовский диплом, это потом он закончил еще и Горьковский пединститут). Там в 1952 году появился Витька в селе Селищево, а в 1954, недалеко в Деревеньках, – и я. А мама так и не смогла продолжить учебу.Когда мне исполнился год, родители переехали в Калинино (вернулись на родину), отец к тому времени закончил институт в Галиче. Мы мотались по частным квартирам. Квартиру на улице Чкалова, 33, где прошло мое сознательное детство, родители получили году в 57. Это был сравнительно новый дом, бывшая контора то ли лесничества, то ли заготчегото. У этого дома не было своего огорода, решением местных властей, нам выделили огород, отрезав треть у соседей. Они с этим не согласились и по весне запахали себе весь огород под самые наши окна. В памяти врезалось искаженное «лицо» лошади в нашем открытом к теплу окне, которую, запряженную в плуг, «под устцы», разворачивали под самыми нашими окнами. Мы что-то орали, нам орали в ответ, и дикий испуганный взгляд лошади стоит у меня перед глазами до сих пор. В том взгляде читалось, «мне стыдно, но меня заставляют и я же терплю». Но как-то все постепенно уладилось, правда, соседи те всю жизнь смотрели на нас косо. Они были коренными жителями Березовой заводи, деревни, откуда начинался весь поселок и фабрика. В их отношении к нам читалось теперешнее «понаехали тут». Там в 1958 году появился мой брат Андрей. Этот момент я тоже хорошо запомнил. По-видимому, мне пытались подать появление братика как событие радостное, но вот появилась мама с каким то тряпичным кульком и меня прогнали, чему тут радоваться. Потом, когда это еще и запищало, все начали суетиться, про меня вообще забыли – чего тут хорошего.Познание жизни мною проходило в условиях голодной действительности тех лет. Крестьянство в колхозах все время занималось побочным промыслом, поскольку на скудных землях Заветлужья их тощие нивы не могли обеспечить семьи и до коллективизации, и, уж тем более, после. Кто смог, перешли на фабрику в рабочий класс, кто нет, приспособились жить на своих землях, торгуя на фабричном базаре продуктами своего подворья, берестяными коробами и лаптями. Наверное, так и появились народные промыслы, та же «хохлома», что совсем недалеко от наших мест или «палех», чуть подальше. Рабочий класс поселка при твердом заработке и при собственном огороде жил совсем не плохо. Я же рос в среде невнятного и не до конца сформулированного партийной идеологией тех лет образования под названием интеллигенция, не рабочая, не сельская, а просто. Прошу не путать со столичной интеллигенцией, это примерно тоже, что сравнивать воду с водкой. Отец в школе днем, вечером - в вечерней, мы с братьями его не видели месяцами, мать работала в «красном уголке» на фабрике. До сих пор не могу понять сказку «про мальчика, который не ел манную кашу». В нашем доме, в соседней квартире, или, как тогда говорили, «за стенкой», жили с семьей хирург нашей больницы, Миневич Михаил Лазаревич, у них была дочь Ира, вот она иногда не ела манную кашу. Меня для воспитания в девочке каких-то обязательных качеств, либо чтобы аппетит развился, раз пригласили вместе покушать, но, видимо, я «схавал» все, что в воспитательных целях было отмерено, столь быстро, что в сознании ребенка это совсем не отразилось, или наоборот, вызвало испуг и больше меня не приглашали. Когда я к четырем годам стал тощее трехколесного, соседской Иры, велосипеда, предела моих тогдашних мечтаний, меня мама отвезла к дедушке и бабушке в деревню.Деревня ШишиДеревня Шиши мне запомнилась густым парным запахом молока, запахами земли и пением ночных птиц, соловьев, перепелов «фить-пирю», а днем с раннего утра – жаворонков. Утром рано бабушка меня - дохлика, будила, давала кружку молока с ломтем ржаного хлеба. Кстати, шиши это вырубленные из молодых сосенок палки с длинными сучками – вешала, их составляли вместе и на них развешивали гороховые стебли со стручками для просушки. Летом, когда приходило тепло, мы с тетей Шурой, моей тетушкой и самой младшей сестрой отца, которая старше меня была лет на семь всего, спали на кровати с открытым окном и марлевой сеткой от комаров. Ночью пели птицы и она мне рассказывала, как их зовут и как они выглядят. Зимой в маленькой печке на углях пекли лук и ели вместо конфет, лук становился сладкий. Правда, были ульи и был мед еще. Ульи стояли как раз возле грядок с разными огородными вкусностями, такими, как репа, горох или огурцы и делали их недоступными из-за пчел. За домом был небольшой лесок, возле других домов не было, а за нашим, был. Это потом я узнал, что у деда – единоличника и чуждого элемента пол земельного надела отрезала советская власть, а приспособить некуда было, вокруг огороды колхозников, вот и вырос лес. Право, не возвращать же, какой пример людям. В этом лесочке – березовом чащеватике, мы днями лупили выломанными тут же палицами воображаемых чудовищ из подрастающих березок. По другую сторону был выгон для скотины, а еще дальше протекала речушка и стояли бани. На другой стороне речки возле нашей бани рос громадный вяз. Там мы в развилке, на высоте, устроили себе штаб, сколотив из досок, оторванных в пустых домах, помост. А еще по субботам была баня. Баня была на берегу речушки напротив того вяза, топилась по-черному, в ней было очень жарко и главной задачей было не упариться, одеваясь не зацепиться локтем или тощим задиком за копченую стену. Позже, когда я уже считал себя знатоком и ценителем русской бани, я попал вновь в русскую баню по-черному, вспомнил тот, из детства, банный аромат с горчинкой от березовых дров. Это была баня моих тети Тамары и Геннадия Тихоновича, мужа ее, которых судьба, как товарища Сухова, мотала по белу свету от Магадана до Воронежа, а осели в конце концов в селе Новопокровском, что на полпути от Калинина до деревни, где жили когда-то ее, тети и моей мамы, родители. И не было деревни или села в округе, где полдеревни не приходились бы нам родственниками. Вообще с родственниками много было разных приключений в детстве. Как-то, получив очередную взбучку от бабушки, я вылетел на деревенскую улицу, разматывая сопли и слезы; какая-то старушка, проходившая издалека, участливо поинтересовалась о моих печалях, не ведая подвоха, я пожаловался и высказал все, что думаю и о бабушке и о всей деревенской жизни. Вечером, через бабушкин смех, был бит еще раз, та «добрая» старушка, какая-то родственница, завернула в наш дом и все рассказала. Для нынешних правопоборников нужно уточнить, быть битым в бабушкином понимании значило потаскать за волосы, которых тогда у меня было вполне достаточно для такой профилактической процедуры, штука не больная, но обидная.Другой случай с родственниками случился, когда мне стукнуло уже лет шесть. Приехал дядя Женя, младший брат отца, курсант, а может уже новоиспеченный военный летчик (правда тут же и уволенный в гражданскую жизнь по хрущевскому сокращению в армии), к нам пришел дядиженин двоюродный брат, Мишка Виноградов, тоже был на каникулах, и собрались они по утру на охоту с дедовой старенькой одностволкой. Весь вечер что-то чистили, смазывали, щелкали курком, я, понятно, вертелся рядом. Очень уж хотелось щелкнуть спусковым крючком, чтобы курок взвести и на спуск нажать, так манила магия точного взаимодействия подогнанных деталей оружейного механизма, простого и конкретного. Понятно, что меня всякий раз гнали прочь. Пошли они на охоту, вечером вернулись, я сразу приметил, что ружье оставили в сенях, мне только этого и надо было, выскочил в сени. Дед спохватился:«Женька, ты ружье разрядил?», …«Нет», и дед за мной. Когда дед добежал до двери я уже взвел курок прислоненного у дверного косяка ружья. Увидев в открытую дверь деда, я понял, что другого случая у меня долго не будет, и решительно нажал спуск. Грохнул выстрел, дробь кучно легла в потолочной доске, я отлетел куда-то от дедовой оплеухи, а сам дед потом долго вспоминал, как обдало жаром выстрела остатки волос на лысине его головы. Получив оплеуху от деда и под зад от любимого дяди, я сильно даже не расстроился, забившись в угол с удовлетворением наблюдал, как дед отчитывал обоих дядьев. Мне же ведь нужна была такая малость – взвести и спустить курок настоящего, не самодельного с гвоздиком вместо спускового крючка, ружья, я же о настоящем выстреле тогда и не мечтал. Зато потом эта история обросла подробностями и легендами, меня выделяли среди родни – «это который родного деда чуть не застрелил».И вот сейчас, достигнув возраста деда, времен описываемых событий, я, наконец, кажется, понял, что же все эти годы гнало меня по всему свету, искал чего, не зная сам, смутно следуя всю жизнь непонятным самому себе принципам и правилам. Надо ведь чтобы просто было в жизни. Надо-то всего, чтобы в каждой деревне родня и зайти можно запросто и им не стыдно за тебя и тебе за себя, и чтобы рады приходу и ты и они. И за рюмкой под капустку с огурчиками рассказать о себе и услышать про них. А тебе и таить-то нечего и им – нечего. Это от жизни в коммуналках, где все исподнее наружу, там живут тесно и нечисто, про то говорить не хочется или когда нагадил дома и сбежал на какую-нибудь комсомольскую стройку, тоже говорить не хочется.Про роднюЯ появился на свет как результат жизнедеятельности четырех родов, так на море из воды появляется верхушка кораллового рифа, как результат жизнедеятельности многих организмов, а рифом здесь - местность от реки Ветлуги по реке Вол, и затеряна эта местность в Ветлужских лесах, по границе елово-пихтового Сибирско-европейского таежного массива, который тянется по северам от упомянутой Сибири до Кольского полуострова, и даже чуть-чуть в Норвегии. Конечно, если копнуть поглубже, то можно докопаться до еще более давних и именитых предков (жаль что Ивана Сусанина навряд ли удастся в родню записать, мы же там, в Деревеньках, были пришлые), хотя при нынешних то возможностях….. Главное, до Рюрика проложить, а от него «кого хошь» - в родню. Но, все же, памятуя, что сочиняется все это для себя и для внучки, которой в школе задали про родственников, постараюсь быть скромнее и ответственнее.Начать следует с прадеда Егора Дмитриева, чью фамилию я и ношу. Конечно, он не во главе династии, всего лишь звено в жизненной цепочке, но именно он после отмены крепостного права, гонимый притеснениями, несправедливостью или еще чем-то, оставил родные края под Кстовом на Волге и переехал с семейством в Заволжье и еще дальше, в Заветлужье, получив по столыпинской реформе земельный надел и став основателем деревни Шиши в Архангельской (Волынской) волости (хотя волость м.б. была и Туранская), в Варнавинском уезде Костромской губернии. Далее, как в Библии: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Илию ….», так и дед Егор родил Николая, Николай родил Александра, и вот уже он, Александр, мой дед, гонится за мной, чтобы пресечь мою тягу к точной механике. В семье деда у его родителей Николая и Марии было много детей – Алексей, Иван, Екатерина, Тимофей, Александр (мой дед), Клавдия, Наталья, Феодосия и Андрей. Я помню дядю Тиму, они жили недалеко от нас, тетю Наталью Тарелкину. Дядя Тима был мастер на все руки, он и дом сам построил, двухэтажный, а какие валенки он катал, знал весь поселок, только к нему и обращались. На подворье дедова брата Ивана, выкупив у наследников покосившийся домик, я построил свой дом. Дядя Андрей погиб обороняя Ленинград и похоронен на Пискаревском кладбище, моего младшего брата назвали в его честь. У деда Александра Николаевича с бабушкой Надеждой Павловной было пятеро детей, старший, мой отец Виталий, потом Михаил, Евгений, Галина и Александра.Другой род, бабушкин, Виноградовых, могу описать с прадеда Максима, который был непревзойденным мастером – печником. Во времена, когда в округе строили в основном курные избы, то есть дома с печами без дымохода, с дырочкой для дыма в потолке, такое умение по силе воздействия можно сравнить с американским «Биллем о правах человека», ну или с началом производства водки вместо медовухи и браги. Сын его Павел, вроде бы, это он переехал и основал деревню Березовая на месте хуторов, был тоже печником, и тоже известным мастером, построенные им печи в разных казенных домах сохранялись долгие годы, по крайней мере, до времен, когда я начинал палить из ружья они достояли и я их помню, мне показывали те печи в раймаге в Калинино и больнице и еще где-то. Поселок Калинино тогда был районным центром уже в Горьковской области. Брат Андрей, который и сейчас там живет и всегда там жил, рассказывал, как сельчане отзывались о прадеде: «Павел Максимович крутой был, помер, на руках до кладбища несли». Мне же дядя Женя, тот самый, который с ружьем не аккуратно обращался, рассказывал, каким ему Павел Максимович запомнился: «дед Павел уже старый был, рука скрючена от печниковской болезни, сидит на печи и кричит «Матка, плесни-ка мне грязи (самогонки – примечание автора)», пил под конец сильно». Так терзаемый в конце жизненного пути другой профессиональной печниковской страстью к самогонке, прадед Павел Максимович, 1881 г.р. женившись первый раз на Наталье породил с ней шестерых детей. Это Надежда (моя бабушка), Василий, Мария, Александр, Владимир, Александра. После смерти первой жены женился второй раз, его жена Яранцева Анастасия Алексеевна, родилась в д. Ивняжная в 1896 г., 29 ноября. Их дети: Ольга, Нина, Анатолий. Умер Павел Максимович 14.12.1957г. оставив после себя девятерых детей, те дети нарожали еще детей, а те - еще и еще и разлетелись они как семена любимых здесь березок, обсеменив потомством российские дали от Владивостока до Мурманска. Его внук, Валентин Владимирович, долгие годы был председателем колхоза в Новопокровском и сельчане после того, как умер, поставили ему памятник – бюст, отдавая заслуги его умелому руководству.Александр Николаевич и Надежда Павловна поженились в аккурат на изломе российской истории, когда еще не затихли отголоски пушечной пальбы на Ветлужском фронте, так мало известном в современной истории, когда, подавив Уренское восстание 1918 года, по округе ходила вооруженная голытьба, отбирая и так скудные запасы хлеба по продразверстке и наложенной на округу контрибуции за восстание. Александр Николаевич, мой дед, недолго побыл на войне и был комиссован после перенесенного тифа. Как он сам рассказывал, его, больного тифом, без сознания отнесли в морг, там он и очнулся ночью, постаскивал с покойников простыни чтобы не окочуриться теперь уже от холода и дождался утра. Дед при первичной коллективизации в 20-ых годах все-таки вступил в коммуну, но, насмотревшись на правящую голытьбу, хоть и сам не богатый был, все же забрал свою скотину и скарб и более никогда ни к каким утопиям не примыкал. Хотя в те годы молодая власть умела убеждать и кулаком и прикладом. Бабушка, которая дожила до 97 лет, вспоминала: «Люди тогда бессовестные были. Приехали, выгребли все зерно, погрузили на телегу, выгнали скотину; я им Витальку с Мишкой посадила на телегу, говорю – и их забирайте, все равно помрут до весны. Горох, говорю, зачем отняли, я его после уборки по горошине по полям собирала. Скинули мешок гороху, корову отвязали, так до весны и жили…».«Потом, в войну уже, лошадь была (своя или, может быть, в лесничестве брали – не уточнил у бабушки), подрабатывали извозом, Мишка с Женькой, подростки, возили картон с фабрики на Шекшему, возвращались домой мимо Новопокровской управы, остановили их, лошадь выпрягли, сказали недоимки образовались, пришли те пешком домой. Дед пошел выручать, говорит, что все уплатил, а ему – так еще доначислили. Тот говорит «что я сыну на фронт напишу», - лошадь отдали».Так и жили, дед, с виду тихий и даже покорный ко всему, внутри стержень воли столь несгибаемый имел, что победил советскую власть и битва эта продолжалась всю его жизнь. Уже и огород урезали, и косить на корову не давали, по лесным полянкам я сам, помню, помогал деду с покосом, а он все ни в какую. Любое начальство, которого и тогда было немерено, заворачивало в дедов дом, он просто доставал бутыль самогона, капусту с огурцами, хлеб да мед и ждал пока откуражатся и пойдут далее своей дорогой, не слышал я ни ропота, ни жалоб, воспринималось это им как погодное неудобство, дождь или метель.Моим воспитанием занималась бабушка, ее любимое ругательство было «лешов добыток», когда ничего не помогало, грозила, вот сейчас деду пожалуюсь. Меня это не страшило, дед всегда казался мне добрым. Были они по-настоящему верующими людьми, не на показ, а для себя, и лоб крестили для себя и поклоны отвешивали, это было видно даже мне. До сих пор не понимаю, почему они не покрестили меня в детстве, видно так боялись, что донесут случайные люди, либо сам я по малолетству, и отцу моему с матерью навредит это. А мне жаль, покрестили бы и жил бы я с этим спокойно, а теперь вот говорят мне, что окреститься надо. Надо бы, да только что я отвечу на вопрос, веруешь ли, перед господом юлить не будешь, а в душе сумятица, то ли от ума, то ли скудости его.Вот так текло время в деревне. Вскоре повзрослела и заневестилась моя тетушка Шурка, всю неделю училась в интернате, дома на выходные ей стало не до меня, успеть в кино вечером, да на танцы. Потом и меня забрали домой, младшего брата, Андрея, не взяли в садик и я с ним сидел до вечера, до прихода матери. Включали розовенький приемник радиоточки погромче, чтобы не так страшно, и до вечера. С тех пор я не очень люблю классическую музыку, наслушался вперед. И было-то, наверное, все то не так уж долго, брат, вот, говорит, что и не было вовсе, а мне врезалось в память, стоит перед глазами, как из табуреток городили машину, и кабину и мотор, как сажал в перевернутую табуретку-кабину Андрея и, пока он «ехал», какое-то время отдыхал от его приставаний.Мамину родню я запомнил хуже, не жил у них подолгу. Больше всего запомнил бабушку Лиду, деда не было совсем. Бабушка была сердита ко всем, так мне казалось. Скорее всего, трудные годы жизни и тяжелая работа на фабрике, когда в войну осталась одна с детьми, наложили отпечаток. Раз, когда она жила на Больничной улице на втором этаже в двухэтажнике, я к ним пришел, когда пилили дрова, я вертелся и уронил на ногу большую двуручную пилу, прямо зубьями на верх стопы. Я взвыл и от боли и надеясь на сочувствие, однако, на удивление, получил только взбучку от бабушки Лиды. Кровь, конечно, уняли, но ушел от них, так и не услышав утешений. Позже, после переезда к дочери, тете Тамаре, в Магадан, когда бабушка приезжала в Калинино с внуком, Вадиком, она была уже совсем другая, добрая, мне запомнилось, что «Войну и мир» с удовольствием читала, чего я тогда совсем постичь не мог. С лица сошла мина суровости, хотелось обнять ее, но я уже был такой большой, что подобные нежности относил к «девчячим» слабостям. А Вадик, тоненький мальчик, бледненький до прозрачности, такими изображает ангелочков на картинах художник, по-моему, Пиросманишвилли, а может Марк Шагал, не отставал от бабушки. Увидев раз коров на лугу, закричал: «Бабушка, смотри, говядина», - не видел коровы до этого, только на банках с тушенкой.Бабушка Лида относилась к роду Фуфаевых, родилась 2 августа (по новому стилю) 1900 года в деревне Якутино, что стояла на берегу реки Ветлуги, в богатой семье. Вообще, деревни на реке Ветлуге были богаче. Отец ее, Михаил Семенович, был лесником в хозяйстве купца Бердникова, того, который построил картонную фабрику возле деревни Березовая заводь, где потом и образовался рабочий поселок позднее названный в честь М.И. Калинина. Жена Михаила Семеновича, Татьяна Федоровна, и было у них четверо детей - Василий, Лидия, Милий и Таисья. Старший сын, Василий, участвовал в Уренском восстании 1918 года, после разгрома избежал расстрела спрятанный в борозде и укрытый волотями убранной недавно картошки, бежал в Киров (Вятку тогда), там и жил. Через год после восстания была амнистия, и про его забыли, его же сын, Валентин, по иронии судьбы, дослужился до полковника НКВД, в Кирове же и похоронены оба. Купец Бердников Иван Лукьянович, (тоже вятский) выкупил имение в селе Белышево у потомков князей Мещерских, владевших имением до отмены крепостного права. Наследник его, Бердников Иван Иванович, основал картонную фабрику и поселок Калинино. Он жил в имении до самой революции и бабушка Лида часто бывала у них в доме, куда детей служащих при имении приглашали на праздники. Бабушка Лида против желания была выдана за Пичугина Михаила Александровича, свадьба была 16 мая 1918 года. И, хотя оба вместе были очень красивой парой, жили тяжело и не дружно. Бабушка была богатая невеста, были у нее красивые вещи, которые она потом перешивала своим дочерям. Бабушка очень любила парня из своей деревни, он был ветеринаром, но отец ей сказал, что выйдешь только за Пичугина Мишу. Сама была роста 1,5 м, а Миша тот был 1,98 м, как в насмешку выдали. Бабушка в замужестве была несчастлива. Ее парень женился, но жить с нелюбимой не смог и с горя повесился. Дед, Михаил Александрович, из богатой и уважаемой семьи, хоть и был без малости двух метров роста, отличался крутым нравом, доставалось и бабушке и дочерям, наверное, не мог простить бабушкину первую любовь, а может то, что сына все не получалось родить. Да и время, когда порушились все привычные устои и воцарилась голытьба, отбиравшая все что нажито трудом, оставило свой отпечаток. Всего у них были четыре дочери – Рита 18.07.1921 г.р., Дина, моя мать, 10.04.1929 г.р., Анфиса, 1936 г.р. и Тамара -17.06.1938 г.р. Тетя Рита с дядей Колей, мужем, жили на 1-ой Полевой улице в Калинино в большом доме с родителями мужа ее. Я помню этот дом, напротив жил мой одноклассник Серега Ершов, а еще я у них прятался за сундуком, когда после какой-то проказы бежал из дома, правда, тут же и был «случайно» отыскан родителями. Тетя Анфиса была доброй, она училась в Москве и приезжала не часто, но всегда привозила подарки; слегка подслащенные хрустящие палочки «соломка» в большой коробке выдавали в ней большую любовь к детям и ко мне в частности. К нашему горю, она погибла при невыясненных до конца обстоятельствах сразу по окончании московского института. Тетя Тамара меня не очень любила, называла нытиком. Справедливости ради надо отметить, что таковым я тогда и был. Раз, приехав в отпуск, они с мужем, дядей Геной, привезли в подарок нам красивенький самосвальчик, можно было чуть крутнуть ручечку сбоку и откидывался кузов. Кабина была ярко-красной, а кузов, помнится, синим. Мама нам его не отдала чтоб не сломали, он долго стоял на комоде, чистенький и сияющий. А еще кто-то нам привез в подарок большую жестяную круглую банку с леденцами, на большой крышке был нарисован атомный ледокол «Ленин» на фоне арктических льдов. Леденцы быстро кончились и в банке держали открытки и всякие мелочи. Я часто рисовал «Ленина» в детском альбомчике и преуспел в этом и не догадывался, что встречи с «Лениным» у меня впереди, что однажды, во взрослой жизни, мне доведется принять самое непосредственное участие в том, чтобы этот первенец атомного ледоколостроения, уже как музей, поставить в Мурманском порту возле пассажирского вокзала на его вечную стоянку. И хоть в нашем мире нет ничего вечного, хочется верить, что с этим получится и будет так.Деда своего, Пичугина Михаила Александровича, я никогда не видел. Он родился в 1898 году и был сыном Пичугина Александра Александровича и Пичугиной Марфы Ивановны. Александра Александровича в деревне уважали, он был старостой и мировым судьей. Когда он ехал на лошади, все жители снимали шапки и кланялись. В империалистическую войну он был кавалеристом, перед смертью лежал на печке и на потолке рисовал пальцем коней. Семья была зажиточной, имели два дома. Жили в Волынцах, но там после революции не стало получаться жить как прежде, и прадед выбрал в лесу место и первый построил дом. Так образовалась деревня Ложечная. При раскулачивании его хотели сослать в Сибирь, но его уговорили старшие сыновья все отдать в колхоз. Умер он довольно старый, памяти уже не было, уходил из дома и бродил по всем деревням с фонарем. Искали, находили и стали его запирать дома. Марфа Ивановна, первая жена Александра Александровича, родила Ивана, Николая, Михаила (деда по матери) и Анну. Умерла при родах пятого ребенка. Вторая жена Александра Александровича, Пелагия, родила Александру, Виталия 1907г.р.,Пиаму (все звали – тетя Пьяна) 1914г.р. и Галину 1916г.р. Звали ее Полюшка, умерла тоже при родах пятого ребенка.Михаил Александрович был столяр-краснодеревщик, в поселке его звали «Золотые руки». Тетя Тамара вспоминает: «Помню у нас стоял буфет-горка, сделанный его руками, полированный, выглядел вполне современно. Отец играл на мандолине. Мандолина красивая, на ней была бабочка, инкрустированная перламутром».… «У него была «бронь» от работы и вначале его не забирали на войну». «Отец был заядлым охотником. После работы брал ружье и уходил в лес, приходил увешанный птицами. А уже во время войны, в мае 42 г. убил медведя. У нас жил тогда Николай Соколов, мамин племянник. Дина (мама моя), Коля и отец пошли за убитым медведем, очень был большой. Дина высокая ростом, растянулась рядом с медведем, медведь был больше Дины. Пришлось освежевать, чтоб принести, несколько раз ходили. Помню, много народу приходило за мясом медвежьим»…. Потом его забрали на войну. «Отец вернулся с войны в 45г., у него была ранена правая рука и она не разгибалась в локте, ел и все делал левой рукой»….. «На войне он пристрастился к фронтовым стаграммам. Пьянство отца мама не выдержала, выгнала его из дома. Он уехал в г. Свердловск. Работал там на мукомольном заводе. Дина (моя мама) к нему ездила»….. «А на отца в 1947 году пришло известие, что он покончил жизнь самоубийством, повесился. Маме прислали его старые метрики, а у него было новое свидетельство о рождении. Мама с Ритой предполагали, что он организовал (в смысле сфальсифицировал) свою смерть, чтоб алименты не платить. Рита еще пишет о таком факте, что Витька (это мой старший брат) был в Ложечной у т. Гали и к ней приезжал мужчина, т. Галя, сестра Михаила Александровича, говорила тому дядьке, показывая на Витьку, что это его внук». Я тоже помню, Витька при мне это рассказывал, когда мы были у тети Риты (Коневой) в гостях в Коряжме, где она жила последние годы. Так, что не исключено, и за Уралом есть Пичугины, что-что, а родственники все плодовитые были.КалининоЗдесь я рос, сидел с младшим братом, Андреем, без конца дрался со старшим, Витькой, ябедничал на него, пошел в школу и изобрел радио (точнее сказать проводной телефон), воплотил в жизнь и создал первую в истории поселка негосударственную и никому не подконтрольную телефонную сеть. Жаль, что это событие осталось незамеченным в истории, но Серега Ершов, одноклассник, он живет в Калинино, может подтвердить, что так и было. Правда, нынче оказалось, он уже помер и ничего не сможет подтвердить. И главное в том, что не с учебника, не из познавательного журнала, я их читать не особо любил, а по наитию, стырив зачем-то у отца в школьном кабинете физики телефонную трубку и наушник, соединил их проводами и, сам себе не веря, услышал на другом конце из-за двери голос Кольки Виноградова, соседа по улице и приятеля, с ним же и была установлена первая частная телефонная линия. Отец подтвердил, что так бывает, и это у меня не галлюцинации, даже за наушники не ругал, объяснил почему получился у нас телефон, все оказалось очень просто.Мы же с Колькой Виноградовым из обрывков раздобытого под это дело трансформаторного обмоточного провода, протянули линию по уличным березам и липам от Колькиного до нашего дома. Вторая линия была протянута к Сереге Ершову. Конечно, мой более известный тезка, Александр Белл, мог бы оспорить мои притязания на открытие, но, клянусь, я все сделал сам, правда, с уже изобретенными к тому времени и позаимствованными мною наушниками. Проблему вызова мы решили тогда просто, надо было оголенными проводками «поскоблить» контакты батарейки от плоского фонарика с линзой на передней стенке, скопированного у немцев, и в наушнике на другом конце возникал хорошо слышимый треск, вот и весь «Айфон».К другим событиям калининской жизни той поры нужно отнести оставшийся в памяти снос памятника товарищу Сталину, что стоял в сквере перед клубом. Я не попал на само мероприятие, рассказали соседские мальчишки, когда же я смотался туда, километра за три от нашего дома, памятник, сваленный трактором – трелевочником увезли, голая «лысина» пьедестала вызывала необъяснимое беспокойство, причем не только у меня и там довольно быстро поставили памятник товарищу Калинину. Еще запомнился обмен денег в 1961 году. Я бегал с пацанами в кино, хотя был мал для того сеанса (интересно, что же тогда разделяли по возрастным категориям), но на кассе в клубе работала тетя Рита Конева, мамина сестра, мама сказала, что она пропустит, а она меня в окошечко кассы не узнала. Когда я протянул ей мятый дореформенный рубль, она его взяла, потом сказала обидное «мал еще», а уже вернула мне сияющий новенький гривенник. Я его нес как медальку и долго не тратил, пока не нагляделся. За денежной реформой как-то быстро стало пусто в магазинах, за хлебом стояли большие очереди. Приехал дядя Женя и чтобы я не мешал им дома, мне выдали копеек двадцать и я помчался в магазин на Фабричной улице. Весь магазин был забит народом, только - что начали давать хлеб, толпа пришла в волнение. Кто-то сказал: «Пропустите пацана, задавите ведь»,я протиснулся в своеобразном коридорчике к прилавку и протянул монетку: «Печенья», продавец усмехнулась, не поняла: «Хлеба-то надо?», я твердо ответил: «Мне печенья», тут уже грохнул хохотом весь магазин от моей житейской неискушенности и неумения пользоваться ситуацией.Знаковым событием детства, безусловно, было, когда после третьего класса отец научил меня ездить на мотоцикле. Мотоцикл раздвинул горизонты, научил мгновенно реагировать на ситуацию и заложил основы технической грамотности. Собственно, тому событию предшествовали другие события, когда я без помощи родителя научился ездить на велосипеде, большом отцовском, известным способом малолеток «под рамой», до педалей не доставал, изогнувшись вокруг рамы навроде неведомого тогда нам обозначения американских денег – долларов. Дух соревновательства, как вирус советской эпохи, владел нами и, если кто-то ездил на велосипеде, а я нет – то лишь бы был велосипед. А он, новенький, и появился дома. Витька, старший брат, возил меня на раме первое время, оба держались за руль и разногласия на счет того, куда рулить, постоянно заканчивались столбом или другим твердым предметом. Рама велосипеда так изогнулась, что пришлось потом переваривать на фабрике в сварочной у дяди Лени Разумова.Само событие произошло вечером на аэродроме. Отец меня до этого научил, как выжимать сцепление, куда переключать какую передачу на нашем недавнокупленном «Минске» модели «М 103». Когда я тронулся, отец бежал за мной, я же включил вторую, затем и третью передачу. Сделав круг, я вернулся к запыхавшемуся отцу, затормозил и остановился, опираясь большими пальцами земли, больше пока не доставал, заорал: «папа, видел, я на третью переключался». С тех пор местные дали стали понятием чисто техническим, где и как лучше проехать и куда хватит бензина.Перечитав все, что написано выше, поймал себя на том, то образ получился весьма далеким от действительности. Все события, что здесь описаны, они имели место и заслуживают внимания, однако на фоне каждодневной действительности были событиями весьма редкими. В общем же, действительность была иной. Отец с матерью начинали строить свое семейное счастье на другом изломе нашей истории, после тяжелой войны, их роман разгорался под потухшими от безысходности взглядами молодых женщин, вчерашних девчонок, чьи мальчишки остались лежать в братских могилах от Волги до Эльбы, так и не отгуляв своего, не отженихавшись и неотневестившись. Не заладилась жизнь у родителей, уходил из семьи отец, около года он не жил с нами. Это было очень грустное время, мать из последних сил тянула семью, мне в школе как сироте бесплатно давали в полдник кисель и теплую еще ватрушку, это воспоминание осталось в памяти, поскольку после возвращения отца ватрушек уже не давали, а денег на школьные полдники по-прежнему не было. Нехитрый диалектический материализм бытия я познавал животом, если где-то лучше, то в чем-то обязательно потеряешь. Дом наш отапливался печками, русская печь, кроме того, была еще и основой нашего домашнего мироздания, здесь сушились наши валенки и штаны, готовилась наша не особо изысканная еда, здесь мы грелись после гуляний на улице. Печи требовали много дров и мать с Витькой зимой заготавливали дрова в лесу, потом их привезли. Дрова пилили и кололи возле дома, я помогал складывать в поленницах под навесом. Запомнилось, как мне случайно прилетело полено, ушибся, не сильно, но закатил маленькую истерику, так, «на всякий случай», а мать от усталости почти не отреагировала, пришлось умолкнуть. Позже, когда уже не стало родителей, я спрашивал у дяди Жени, что случилось в нашей семье, почему так жили родители. Он сказал, что не знает, мать была очень красивой женщиной, высокой (в своего отца), и любила отца. Она не смогла закончить институт, потому что появились мы и семья требовала всех сил и времени, кроме того, учился отец на заочном отделении, закончил два института и матери не оставалось на себя времени. Они официально поженились только в 1956 году, после того, как родились Виктор и я. Наверное, то время после войны, когда в стране осталось мало мужчин, наложило свой отпечаток. Дядя Женя не договаривал, не обошлось и без отцовых родственников. С дядей Мишей, другим братом отца, и его семьей у нас остались сложные отношения отчужденности, было время, когда не общались совсем. Маму же любили в поселке, она была и умной и доброй, хорошо пела, пела в поселковом народном хоре по молодости, а таких пирогов, как умела печь она, не удавалось ни кому, это признавали все. Когда она умерла, через три дня после рождения моей дочери Лены и только-что отпраздновав свое пятидесятилетие, была теплая и солнечная погода. Ее хоронили перед первомайским праздником и траурная процессия шла по улицам через весь поселок к кладбищу, я поразился, сколько народу вышло на улицу проводить маму в последний путь. Казалось, что весь поселок вышел на улицу. Процессия двигалась по нашей улице, улице Фабричной, Большому (или, как позже стали называть, Горбатому) мосту, вдоль забора картфабрики и проходной, мимо магазина с названием «Новая дежурка» (была еще и «Старая дежурка» на Кооперативной улице), по улице Ленина мимо школы и далее, мимо клуба и везде-везде стояли люди. Начав писать о родственниках, я довольно быстро вышел за рамки сочинения для внучки в школу, тема меня увлекла, появилось много вопросов и собственное суждение о событиях столетней давности. Я попытался объяснить себе и тот душевный зуд, что двигал мною по жизни, оказывается, двигал не только мною, но и многими моими родственниками. Мои родственники были людьми трудолюбивыми, жили зажиточно и хотели жить вольно и по справедливости. Когда не получалось, уходили дальше в бескрайние леса Заветлужья.Народ, заселивший эти места – потомки суздальских, новгородских и псковских переселенцев, потеснивших жившую здесь мордву, пришедших в эти места в начале прошлого тысячелетия, сохранил в глубине души тягу к вольности. Не даром почти не один из российских бунтов не обошел эти края. Это восстания Болотникова, Степана Разина и Пугачева и много других, мало описанных в истории, таких, как народные волнения 1861-1862 годов или Уренское восстание 1918 года. Могу не согласиться с классиком, эти бунты не были ни бессмысленными, ни жестокими, по крайней мере – не всегда таковыми были. Жажда справедливости двигала земляками, когда уже не было сил терпеть, возникала потребность в поиске справедливости. А вот реакция властей, воспринимавших это как неповиновение и бунт, была осмысленно жестокой. И, если в Уренском восстании, когда опять не удалось договориться с властью, от рук восставших погибли около 50 человек, среди которых и погибшие в боях и расстрелянные руководители, то после подавления восстановления, из числа возглавлявших восстание и просто заложников было расстреляно более 250 человек в Ветлуге, Урене и Баках. А погибших при штурме Варнавина, в боях на Ветлужском фронте, где палили из пушек, и при отступлении, было много больше. На всю округу помимо обязательной тогда продразверстки была наложена еще и непосильная контрибуция. Недаром, еще более мелкие бунты в округе продолжались до конца 1922 года, пока власти не установили твердый налог.События, описанные здесь, определили судьбу моих родственников. Кто-то был непосредственным участником бунта (неповиновений), другие, как мой дед Александр Николаевич и бабушка, Надежда Павловна, противостояли этому всю жизнь, отказавшись принять условия лояльного сосуществования с властью, третьи же всю жизнь маялись от внутреннего несогласия. В христианском мире тех, кто пронес веру сквозь жизненные лишения, называют праведниками. Конечно, вера в Господа и вера в Cправедливость жизни вещи разные, но я горжусь теперь своими родственниками гораздо больше, чем своим знаменитым случайным земляком.Страсти господниЧеловечество всегда жило и живет чувствами и страстями. Сложный мир человеческих отношений многообразен. То, что является нормой у одних, совершенно неприемлемо, до бунта, до ножей, у других. В детстве у любого человека чувства просты и понятны, хотя и не менее значимы, под их воздействием формируется характер. С взрослением прежние страхи и чувства вызывают улыбку, человек плывет в потоке новых страстей, чувств и ощущений, совершенно не задумываясь, что вектор его потока определился в детстве под воздействием и сложных и совсем простых чувств и ощущений. Люди говорят - «судьба такая».Мне с детства запомнилось буйство чувств, иногда сложно даже описать, что это за чувства, например в школе в младшем классе меня обуревало чувство: «Серега, гад, перестань все время жрать ириски, мне же до судороги, до помутнения хочется ириску». Серега Ершов из благополучной рабочей семьи, у них был уютный чистый дом с узорчатыми занавесками и белой вышитой скатертью, печкой обложенной кафелем, трофейный баян «Solo Boleiro». Я после школы, наскоро сделав уроки, заходил за ним, часто попадал на их ужин, без ужина Серегу не отпускали гулять. Тетя Нина, мать Сереги, звала к ужину: «Саша, садись ужинать», «Спасибо, тетя Нина, я дома поел», « Да не тебе, знаю, что ты поел». Это было к дяде Саше, Серегину отцу. Мне же так хотелось, чтобы хоть однажды угостили вкуснопахнущей котлеткой. Еще важным было чувство справедливости. Кто помнит времена моего детства, наверняка помнит и то, что улицы тогда наполнялись детскими криками, то играли дети. Играли в войну, футбол, лапту и еще много во что играли, сидеть дома тогда совсем не принято было, не отпустить гулять, это было суровое наказание. Зимой были санки, лыжи, на которых катались с гор. В поселке все помнят горки – Толчина, для совсем малых, Капрановские, Баковские - для тех, кто постарше, Пионерские – для школьных уроков по физкультуре. Дома мы спали, ели, переодевались после школы, наспех делали уроки. Вся остальная жизнь проходила на улице. Среди детских криков часто можно было слышать: «Я так не играю, так не честно». После, с криками же, может даже большими, начиналось выяснение, по теперешнему – разборки, кто кого и в чем обманул и почему это «не честно». Разборки эти заканчивались, если достигнуто было согласие, игра продолжалась, если нет – расходились по домам. Каждый, возвращаясь домой, понимал, что завтра снова идти играть, ну не дома же сидеть и это понимание заставляло идти на определенные компромиссы, поскольку перейти в другую компанию, как правило, не было возможности, они образовывались по территориальному принципу из местных пацанов. Такое саморегулирование было важной частью развития, подспудно формировалось понимание цены обмана и потерь в случае нежелания идти на компромисс. Такого понимания не возникало у детей, с раннего детства оторванных от детских компаний. Занятия музыкой, спортом и другие занятия по велению взрослых делали их выше остальных детей, но прививки от подлости, обмана, категоричности суждений они не получали. Они и в классе-то всегда были особняком.Другое чувство, чувство быть не хуже других. У нас на улице к соседской бабушке Фене на лето привезли внуков - погодков, как звали, не помню. Мы вместе все лето купались в лягушатнике на Волу у Большого моста. На зиму их забрали в город, когда они приехали на следующий год, оказалось, они в городе научились плавать и больше не боялись нырять с плотика и переплывать нашу речку, метров двадцать, от берега до берега. Ну не мог же я сказать, что по-прежнему не умею плавать и показать насколько я хуже их. Поплыл уже в тот день, хотя от страха перехватывало дыханье. Отец в середине того лета взял меня и Витьку, брата, в поездку на реку Ветлугу на несколько дней с ночевкой в палатках, на баркасе с большой шумной компанией учителей и их отпрысками постарше меня. Он был очень удивлен, когда я вместе со всеми поплыл на ту сторону реки, это была уже большая река. Витька, старше меня на два с половиной года, конечно, тоже умел плавать, как, чему и где он учился, не знал, наверное, никто. Но, конечно, главным в моей жизни было чувство страха, мне казалось, что Витька как-то совсем не получил этого чувства от создателя и мне, по ошибке, а может, так и надо, перепало две меры. Я все время боялся, когда Витька брал меня с собой гулять. Он без конца задирал всех пацанов и шкодничал. Раз мы разработали план завоевания господства на нашей и соседних улицах. При встрече с серьезным пацаном, я внезапно падал и хватал его за ноги, Витька толкал, свалив на землю, мы получали тактическое превосходство над более сильным противником и могли закончить встречу, начистив тому «рожу» снегом. Кстати, идея была моя. Раз это сработало и очень Витьке понравилось, он хотел постоянного применения разработанной технологии. Потом я встретил того пацана, когда был один. Разница в два или три года в этом возрасте решила все, снега «нахлебался» уже я, и я стал избегать Витькиного общества, поскольку один я возвращался почти всегда, Витька же меня звал лишь когда ему нужно было. Я очень не любил драться, это тоже было сложное чувство, смесь из страха и чего-то еще, а жизнь укладывалась так, что драться приходилось постоянно, особенно когда стал постарше. И не то, чтобы я был одиночкой, мы все время с соседскими пацанами гоняли футбол, играли в волейбол, катались на санках и лыжах, без конца ломали их. Нас звали в поселке «Заводянами» поскольку мы жили на месте деревни Березовая заводь, которая стала основой поселка. Но вот с девушкой гулять как-то у меня получалось все больше одному. А это стало постепенно у меня совсем не редким делом, даже каждовечерним, с Танькой с соседней улицы. И были соперники и другое чувство, не показать себя трусом, перебарывало все остальные чувства. Зато было место для творчества, выручало знание нравов, местности и неординарный подход. У нас в то время существовал сложный кодекс поведения, согласно которому нападать на меня толпой в три - пять человек в присутствии девушки не делало моим соперникам чести, нужно было дождаться окончания свидания. Они, соискатель Танькиного расположения и его «группа поддержки», поджидали у Танькиного дома, понимая, что где бы мы ни гуляли, здесь они точно дождутся. Мы с Танькой спокойно проходили мимо моих завистливых противников через калитку к ее крыльцу, неспешно прощались, я ждал, когда она закроет дверь и «делал ноги» через огороды. Такая практика себя оправдывала и требовала лишь некоторого творческого подхода применительно к ситуации. Однако, тот Танькин вздыхатель, говорят ныне уже покойный, не унимался. Мы дрались за школой «один на один», дрались за поселком около «кирпичного», причем я его колотил, он не унимался. За школой прозвенел звонок и нас растащили, за «кирпичным» я разбил ему нос, наставил «фингалов» под оба глаза, сам же оставался совсем непострадавшим, а тот, совершенно зомбированный своими чувствами или страстями все не унимался и рвался продолжать драку. Пришлось сбежать мне, я совершенно не представлял, как мне по другому выйти из этой ситуации. Колька Виноградов, был свидетелем и бежал вместе со мной, так при полном тактическом превосходстве мы оставили поле боя без чувства победы. Финал той истории был подготовлен соперниками и приходился на мой выпускной вечер, когда мы заканчивали восьмилетку. Кто-то из одноклассников меня предупредил, что ребята основательно подготовились, чтобы уже не выпустить таким веселым и целым. Пришлось покинуть школу через окно со стороны школьного садика с середины выпускного бала. Пришлось снова бежать, мою пропажу обнаружили, образовалась погоня и мне пришлось повторить опыт Спартака в упрощенном порядке. Бегал я хорошо, Вздыхатель, обуреваемый страстями и чувствами резво гнался за мной впереди остальных преследователей, я позволил ему догнать себя и хорошенько отметелил пока не подтянулись остальные преследователи, при этом наиболее резвому из преследователей перепало тоже. После того я с чистой совестью убежал от них. С полным ощущением славной победы. Так сложная смесь чувств из азарта, страха, нежелания драться, чувства затронутой чести, справедливости, соперничества и многих других чувств определили дальнейший вектор моего пути. Я не стал заканчивать среднюю школу в Калинино и после восьмилетки поступил в Архангельское мореходное училище, куда отправился без провожатых в июне 1970 года в свои пятнадцать лет, получив вызов на экзамены, которое закончил в 1974 году и приехал по распределению в Мурманск и начал работать в Мурманском морском пароходстве, где прошел весь путь от 4-го помощника до капитана и стал капитаном судов дальнего плавания. А затем капитаном Мурманского морского порта и начальником морской администрации. Когда Андрей, младший брат, еще заканчивал школу, я предложил ему ехать поступать в архангельскую мореходку или ленинградскую «макаровку», «я там всех знаю», и был удивлен, почти изумлен, когда он сказал, что это ему не интересно. Я и предположить не мог, что кто-то не хочет быть моряком, космонавтом или летчиком. Но Андрей относился уже к совсем другому поколению. Вектор его судьбы закладывался другими чувствами и обстоятельствами.А страху я очень благодарен, он порождал осторожность, заставлял останавливаться, думать и находить верные пути в жизни и в жизни той случалось многое. Ну а выказывать страх совсем не обязательно, его нужно скрывать от других глаз. Да и вообще чувства не выставляют на показ, их лучше держать при себе и доверять их другим только, если уверен, что тебя поймут и не обратят против тебя же.Про ёжиковДетей маленьких городков и деревень отличало тогда от настоящих городских другое отношение к окружающей действительности. С малолетства на наших глазах происходили события, формировавшие такое представление. Когда петух во дворе переставал «быть кавалеристым» ему рубили голову и он оказывался в супе и это не вызывало ни переживаний ни сожалений. Сколь бы ни смышленым был поросенок, заливное к новогоднему столу было вещью непреложной и обсуждению не подлежало. Здесь отношение к сущности бытия было упрощено и выкристаллизовано до понимания жизненной необходимости. У городских жителей отсутствует взаимосвязь вещей, они не бывают свидетелями перехода от коровы к говядине, от курочки к окорочкам. Смерть хомячка вызывает поток переживаний совсем не понятный сельской детворе. С пониманием такого миропорядка мы и подрастали в окружающем нас мире. Повзрослев, я стал ходить на охоту с все той же известной дедовой одностволкой. На охоте в конце лета случалось встретиться с ежиком, осторожно развернуть колючий клубочек, погладить теплое пузико, ощутить его испуганное сердцебиение. Затем весело с ощущением какой-то радости мы расходились. Такую же радость вызывает погладить по пузику щенка, совершенно бесхитростного и повизгивающего от преданности и радости, что ты его заметил. И никогда не возникало желания сделать плохое тому щенку или ёжику, думаю, и никому не пришло бы в голову стрелять в ёжика и жаворонка, чье веселое песнопение сопровождало нас с раннего лета до осени и с утра до вечера. Но потом ёжиков не стало, и жаворонков не стало, они пали жертвой эксперимента под замысловатым названием, типа того: «стимулирование роста хвойных пород лесных деревьев за счет подавления лесных лиственных растений путем опыления химическим препаратом…», и приводилось длинное химическое название. Официальное название, наверное, было другое, но, по сути – так. Случилось это году в 67-69, а может и чуть попозже. На нашем аэродроме летом поселились два самолетика – кукурузника, их заливали той самой химией и они весело стрекотали над окрестными лесами, совсем как жаворонки, только песнь их была не радостной. Первыми пали ёжики, тетерева или поляши на местном наречии, которых много было в окрестных лесах, потом жаворонки и другие. Позже, в 72 -73 годах, приезжая на каникулы, я ходил по лесам по сложившейся привычке с ружьем. Это было неуютное чувство быть в больном лесу, где не пели птицы, не жужжали шмели, только паутина покрывала все. Эта тишина и пустота казались зловещими. На аэродроме в месте, где заливали эту химию, образовалось вытравленное пятно, которое воняло и не заросло до конца, наверное, и сейчас. А березки выстояли. Наверное, неспроста в округе так много было деревень с березовыми названьями: Березники, Березовая заводь, Березовая. Даже больше, чем других популярных, козлиных, названий: Козляны, Козлиха, но такой уж здесь народ. Не выстояли люди, последующие годы различные виды раковых и сердечных заболеваний стали косить людей в поселке и окрестных березовых и прочих деревнях. Жертвой того стали и мои мать и отец. Отец пытался обратить внимание общественности, писал в журнал «Наука и жизнь», суконный пустой ответ до сих пор можно найти в семейных архивах, но в 1979 году умерла мама, а затем, в 1982 году эксперимент забрал и отца, юнцом попавшего на войну, выжившего там и в послевоенной Европе, учившего детей в нашей средней школе физике. Не думаю, что кто-то сейчас захочет признать те события, как жестокий эксперимент над живым, случались эксперименты и более жестокие: и войны, и коллективизация, и затопленные гидростроем города, и много других. В принципе ведь все социальные эксперименты и потрясения сводятся лишь к одному – желанию одних людей повелевать другими, жить за их счет и всегда есть жертвы и продолжаются они во всей истории человечества.Другой такой эксперимент к которому мне довелось слегка прикоснуться взглядом назывался Унжлаг. Система лагерей Унжлага располагалась в междуречье рек Ветлуга и Унжа. Там, на лесной речушке Пчелье, в году 1966 или 67 нам выделили покос для появившейся у нас коровки Жданки. Это было далеко от поселка. Мы ездили на мотоциклах с отцом, я на «Минском», отец на «Юпитере». По дороге, раз, мы попросились на ночлег в доме в деревне Алалыкино, что была на самой границе, далее уже располагалась система под названием Унжлаг. Ночью нас с отцом, спавших на соломенном матрасе на полу атаковали клопы, так, что мы бежали и заканчивали ночь на крыльце. Больше мы там не останавливались. А останавливались на ночевку на кордоне у лесника Селезнева, а сам кордон располагался на 25 лагерном пункте Унжлага. Когда мы там были, лагерь уже ликвидировали за несколько лет до нас, но вся инфраструктура с колючкой, вышками, бараками и конюшнями оставалась в целости. И, хотя время у меня было, мне жутковато стало и я не решался обследовать лагерь до конца. В памяти остались раскрытые ворота в высоком заборе, поверху опутанном колючей проволокой, вышки, конюшни и бараки, несильно отличавшиеся от конюшен. То, что все лагерные внутренности раскрыты этими воротами для всякого обозрения, выглядело неестественно и пугающе. Располагался лесник в домике охраны, там мы и переночевали. У лесника Селезнева были два сына Воха и Петька, которые все лета проводили с отцом на кордоне. Рассказывали, что там как-то в волчий капкан попался медведь, лесника не было, а младший, Петька, узнал и решил разобраться сам, он взял отцовское ружье и пошел за медведем, выстрелил, пуля выбила медведю зубы. Рев медведя слышен был на всю округу, Петьку спасло, что цепь капкана и то, за что он был прикреплен, выдержали. Переночевав, мы шли по оставшимся шпалам железнодорожной ветки пешком, ехать на мотоциклах по шпалам было совсем невозможно. Мы шли в направлении другого лагеря, семнадцатого, не доходя до которого километров пять и был наш покос. То, что нас косить загнали в такую даль, показывает, как относилась местная власть к нерабочей интеллигенции в рабочем поселке. Хотя я помню, что люди всегда уважительно относились к отцу, особенно сосед дядя Вася Коробкин – пожарник, особенно, когда был пьян и сидел на скамеечке возле своего палисадника. Дядя Вася был пьян часто и всегда останавливал нас, братьев: «Сашка, Ондрюшка!» поднимал назидательно палец и говорил:«Папка у вас хороший! Хороший! Он людей учит!» и мы с чувством гордости шли домой и, даже есть меньше хотелось от гордого чувства за своих родителей, будь-то бы и мы к этому тоже причастны. Когда, откосив, мы поставили там стожок, я пошел на охоту, ружье брали с собой. Пройти по лесу было почти невозможно, вся земля была искалечена лагерными лесорубками, везде валялись поваленные деревья и вывороченные корневища пеньков, видимо брали только сортовую хвойную древесину. Перелезая через очередную валежину я нос к носу столкнулся с большой серой гадюкой. В оторопи я начал ее колотить подвернувшейся палкой до тех пор, пока из пуза ее не стали вылезать маленькие змееныши, их было больше десятка и мне стало стыдно перед змеиным сообществом и больше потом я не убивал змей. Сейчас мне подумалось, наверное, там тоже не было ёжиков, земля, столь обильно политая страданиями, кровью и потом, родит змей, а не добрых ежиков. Хотя, вообще-то ежики как раз и охотятся на змей.А еще мама вспоминала, как году в пятидесятом, в поселке выступала Лидия Русланова, певица и народная любимица тех лет, которая тоже побывала в одном из лагерей Унжлага, а может быть просто выступала по небольшим городкам и поселкам во время своей опалы.Не стало ёжиков и на берегах нашей речки Вол, загаженной работой фабрики. Фабрика, став определяющим звеном в судьбе многих земляков, погубила реку своей производственной жестокостью. Река долго сопротивлялась, две мельницы Ивняжнинская и Орлянская сдерживали распространение остатков древесной массы, сбрасываемой в реку при изготовлении картона. Мы с шишовскими пацанами ловили окушков и сорожек на омуте за Орлянской мельницей, когда она еще работала. Омут был большой и черный. Когда я стал постарше, мы часто приезжали туда на мотоциклах. Купаясь, подплывать под развалины мельницы было жутко, на середине омута я пытался достать дна, погружаясь в черную пучину, но так и не доставал. Вода была черная и непрозрачная на глубине уже полметра, это гнили в омуте остатки древесной массы от работы фабрики. Потом, когда мельниц не стало, а производство картона выросло до рекордных 12 тыс. тонн в год, очистные сооружения никто не модернизировал и река сдалась не в силах больше сопротивляться. Попозже, уже курсантом, году в 72 я на каникулах был на охоте и, томясь жаждой, подошел к реке умыться и, может быть, напиться, но та зловонная жижа больше не была рекой.Прошли годы. Уже более десяти лет не работает фабрика, река вновь стала рекой, вымыв весенними бурными водами следы человеческого насилия, оправился лес от химической атаки, заросли и раны земли Унжлага, я в этом году побывал там. Люди забыли концерт Лидии Руслановой в поселке. На лесных опушках в короткий зимний день снова можно на березах увидеть гроздья тетеревов или поляшей как их здесь называют. Скоро вернутся и ёжики. А поселок больше не называют «фабрика», он стареет и дряхлеет. По-прежнему хорошеет только кладбище. Оно вольготно располагается на красивом солнечном сосновом взгорке перед въездом в поселок. Там, в величественной и грустной красоте, свободные от чувств и страстей спят земляки, и туда тянет посидеть в тени столетних сосен, помолчать и погрустить на скамеечке возле родительских надгробий. Вот такая вот история.P. s.Здравствуй, Катенька!Извини, что так надолго задержался с ответом на просьбу написать что-нибудь о родственниках для твоего школьного сочинения. Сначала хотел, чтобы получилось легко и коротко, несколько веселых историй, имен родственников твоей мамы, чтобы проще запомнить и написать в сочинении. Получилось же и длинно и не так весело. И затянулось надолго.Начав писать о себе и об своих отце и матери, я подумал, что нужно написать, кем они были и об их родителях и семьях, где и как они росли. Написав о каком-то событии в их или в своей жизни, приходилось писать и о том, как тогда все жили, чтобы было хоть немножечко понятно, почему так происходило. Потом вспомнил детство и «пошло – поехало». Я вспоминал времена, когда был такой же как ты, чуть помладше и чуть постарше.Зато ты теперь знаешь как много у тебя родственников. А если еще и другие дедушка и бабушки напишут о своих родственниках, вот это история получится. В общем, в школе можешь объяснить, сколь непростую задачу они задали, написать про родственников.А в двух словах можно написать, что родственников у тебя полстраны и живут они везде и до Урала и за Уралом, а если кто не верит, пусть почитает и посчитает.
Обнимаю вас всех, дедушка,
Дмитриев Александр Витальевич Капитан дальнего плавания